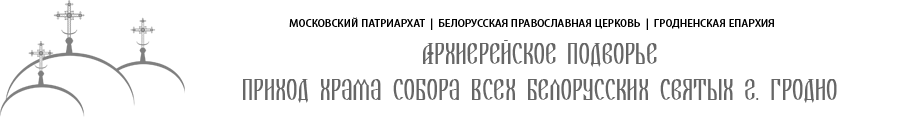Преподобный Елисей Лавришевский († 1250)
день памяти 5 ноября (н.ст.)
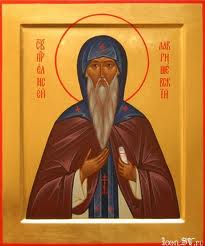
Одной из наиболее загадочных личностей Белорусского Патерика является основатель Лавришевского монастыря Елисей, живший в первой половине XIII века. Трудность выяснения личности этого святого состоит в том, что сведения о нём дошли до нас только «из вторых рук». Достаточно серьезная проблема, возникающая при этом, состоит в попытках исследователей отождествить с Елисеем различных более известных исторических деятелей — Литовского князя Войшелка, согласно одним источникам, либо Ролмунта — Лаврентия, согласно другим, на основании совпадения отдельных эпизодов их биографий. Некоторые из них стали связывать личности Елисея и Войшелка — Ролмунта — Лаврентия, что приводило и приводит к обидной исторической и агиографической путанице. Попытаемся, выяснить, есть ли основания для подобного отождествления, но сперва сделаем краткий обзор сведений об упомянутых лицах и сопоставим эти сообщения.
Архимандрит Николай в «Историко — статистическом описании Минской епархии» (СПб. 1864. С. 129. 131) сообщает, что под Новогрудком, «в том месте, где ныне Лавришевская приходская Успенская церковь» существовал мужской монастырь, основанный около 1225 года неким Елисеем. Также есть сведения о том, что А.Коялович имел жизнеописание этого святого на славянском языке. Согласно этому повествованию, Елисей был сыном князя Тройната, занимал высокую должность при дворе Великого князя Миндовга. Но, став христианином, невзлюбил суету будничной жизни, оставил придворную службу и удалился в пустыню, где его нашел некий православный монах, вместе с которым Елисей и основал монастырь — лавру. Среди братии этой обители был и князь Войшелк, живший, впрочем, в особом месте. Елисей был убит своим питомцем, юношей — слугою в ночь на 23 октября, около 1250 года, согласно утверждению Е.Голубинского (Цит. соч. С.217). Вот, собственно, и всё, что известно о жизненной стезе преподобного Елисея Лавришевского.
О Литовском князе Войшелке сообщают авторы Ипатьевской летописи, «Степенной Книги», Хроники Литовской и Жемойтской и Хроники Быховца. Наиболее объективные сведения содержатся в Ипатьевской летописи, тогда как повествование в «Степенной» отличается явным стремлением к агиографизации, а составители белорусско — литовских хроник не только часто основывают свою историографию на совершенно легендарном материале, но и с очевидной пристрастностью относятся к этому персонажу, идеализируя и героизируя его образ.
Согласно Ипатьевской версии, с которой в основных чертах совпадает сообщение «Степенной Книги», Войшелк — язычник, сын князя Миндовга, «начал проливать крови много, убивая ежедневно по три, по четыре (человека — A.M.), и в который день не убьет кого — печалился тогда, а если убьет кого, тогда веселился». Когда же «вошел страх Божий в сердце его, решил у себя принять святое крещение и крестился в Новом Городке» против воли своего отца, а после, «желая принять монашеский чин», он постригся «в Полонине» в монастыре игумена Григория, «человека святого, как никто прежде него, и после его никого не будет». Спустя три года проживания в этой обители Войшелк отправился на Афон - «в Святую Гору», но не дошел по причине «мятежа, который был тогда в тех землях», и возвратился в Новогрудок, где и «учинил себе монастырь на реке на Немне между Литвою и Новым Городком».
Когда Псковский князь Довмонт убил Миндовга вместе с двумя его сыновьями, продолжает летописец, Войшелк бежал в Пинск и, собрав военную силу, в 1264 году разбил Довмонтовы полки, причем в одной из стычек был убит и сам Довмонт. Войшелк отрекся от княжения в пользу своего зятя Шварна и удалился «к Угровску в монастырь к святому Данилью». В повествовании упоминается, что к этому времени — 1268 году — вышеупомянутый игумен Григорий был еще жив.
В Страстную седмицу Войшелк был приглашен на празднование Пасхи князем Васильком вместе с братом Шварна Львом. Войшелк, опасаясь этого Льва, сперва пытался отказаться от приглашения, но, поверив ручательству Василька, наконец согласился. Во время же пасхального пира «Василько, упившись, уехал домой спать, а Войшелк поехал к монастырю, в котором остановился. А потом Лев приехал к нему в монастырь и начал говорить Войшелку: куме, напьемся! И начали пить. Диавол же, испокон не хотящий добра человеческому роду, вложил в сердце Льву убить Войшелка из зависти, что он отдал землю Литовскую брату его Шварну. И учинив убийство, погреб тело его, положив в церкви святого Михаила Великого» (ПСРЛ. Т.2. С.858-868).
В пролитовских же хрониках, имеющих легендарно — компилятивный характер и составленных значительно позже, в половине XVI века, дается несколько иная версия событий. Во-первых, хронисты ничего дурного не говорят о языческом прошлом основателя Лавришевского монастыря, который является уже не Войшелком, а Ролмунтом (Рымонтом), получившим в иночестве имя Лаврентия (Лавраша): «Тройден имел дочь из рода князей мазовецких, — сообщается в Хронике Быховца, - и имел от нее сына, названного Рымонтом. И когда сын его Рымонт достиг совершеннолетия, отец его Тройден отдал его в науку языка русского ко Льву Мстиславичу, основавшему город во имя свое Львов. И понравилась ему вера христианская, и окрестившись, понял, что мир сей ничего не значит, и оставив мирское, постригся в чернецы, и назван был Лаврентием. И пребывая в чернецах, пришел к дяде своему Наримонту и просил его, чтобы дал ему в Новгородском уезде место в пуще у реки Немана для постройки своего монастыря. И поставил сперва церковь Святого Воскресения, (и при ней основал — A.M.) монастырь, называемый с тех пор Лаврашев. И пребвал в монастыре дяди — великого князя Наримонта, и умер…» (Хроника Литовская и Жмойтская. ПСРЛ. Т.32. С.135-136).
Как видим, автор этого сказания утверждает, что название Лаврашева («Лаврентийского» в тексте Хроники Литовской и Жемойтской) монастыря происходит от имени его основателя Лавраша (Лаврентия); подобная этимология топонимов чрезвычайно характерна для этих сочинений, как характерно и весьма свободное отношение к текстам — протографам, на основе которых их составители возводили здание своих летописных компиляций. В белорусско — литовских хрониках отмечается, что Рымонт — Лавраш основал монастырь при Воскресенской церкви (в сказании о Елисее упоминается Успенский храм), весьма подробно повествуется, как после поражения Довмонта на сейме в Кернове Ролмунт передал власть Витеню, после чего вновь ушёл в свой монастырь «и там благочестиво жизнь свою закончил» (ПСРЛ. Т.32. С.34), причем об убийстве его не говорится ни слова. Согласно версии Литовской хроники, Ролмонт — Лаврентий умер в 1309 году, но хронологическим сообщениям её составителя никак нельзя доверять. Автор Хроники Быховца, в подлинности которой можно усомниться, упоминает князя Льва Мстиславича лишь в одном, отличном от сообщения русского летописца, контексте: у него учился мудрости юный князь Рымонт. Итак, мы имеем теперь уже три не совпадающие между собою и на первый взгляд даже взаимоисключающие версии жизни основателя Лавришевского монастыря. Однако две из них — представленную житием Елисея в пересказе А.Кояловича и версию составителя Ипатьевской летописи, с которой в основном совпадает рассказ в «Книге Степенной», можно без особых трудностей и натяжек согласовать между собой, а на этой основе сделать попытку истолкования версии белорусско — литовских летописцев и восстановления возможного течения событий жизни преподобного Елисея.
Приблизительно около 1225 года Елисей с неким монахом, имя которого было, возможно, Григорий, основал монастырь при церкви Святого Успения, где спустя длительное время постригся. Здесь же три года пребывал князь Войшелк. После неудачной попытки добраться до Афона Войшелк основал собственный монастырь, а после отмщения Довмонту удалился в иную обитель в 1268 году — намного позже смерти Елисея, но еще при жизни его духовного друга Григория. Не исключено, что этот Елисей действительно был выходцем из княжеского рода и возможно, его языческое имя было Ролмунт или Рымонт. Наименование же Лавришевского он получил либо по той причине, что местность, избранная для монастыря, имела аналогичное название, либо потому, что он основал лавру. Это тем более вероятно, что монастыри не назывались по имени их основателей, и лишь значительно позже имя основателя могло присоединиться к названию обители: Спасо — Евфросиниевский монастырь, Троице — Сергиева Лавра. Вряд ли монастырь был назван во имя святого Лаврентия, ибо, судя по названию Успенской церкви, обитель святого Елисея носила, подобно многим мужским монастырям, имя Пресвятой Богородицы.
Принимая во внимание компилятивный характер «Хроники Великого княжества Литовского и Жемойтского» и «Хроники Быховца», можно попытаться разрешить проблему о возникновении этой третьей версии. Вероятно, что в древнем сказании о Елисее Лавришевском повествовалось также и о судьбе его (либо его соратника Григория) ученика Войшелка, а придворный хронист, смешав воедино сведения о Елисее и Войшелке и, возможно, и еще кого-либо, создал совершенно фантастическую биографию Ролмунта — Лаврентия (Рымонта — Лавраша).
По кончине святого Елисея мощи этого преподобного отца были прославлены чудотворениями. Еще в древнем агиографическом сказании говорилось о некоем бесноватом, исцеленном после того, как он случайно притронулся к останкам Лавришевского чудотворца.
Около 1505 года, когда татары, опустошившие окрестности Новогрудка, приблизились к Лавришевской обители, Господь вновь явил чудо через Своего угодника: татарским всадникам показалось, что монастырский двор заполнен отборной конницей, и они в ужасе бросились бежать.
Это чудо и послужило, вероятно, основанием для канонизации преподобного Елисея митрополитом Иосифом Солтаном на Виленском соборе 1514 года. Мощи святого, почивавшие ранее открыто, во время одной из многочисленных в истории нашего многострадального края войн были сокрыты в землю и после того, как сама Лавришевская обитель была сожжена, уже не найдены.
Тропарь Елисею Лавришевскому и свт. Лаврентию, затворнику Печерскому, еп. Туровскому, в Ближних пещерах, глас 3:
Преподобие отче наш Елисее, / с Лаврентием чудным подвизался еси, учителю своему подражая, / земную славу и честь стопам Христа повергли есте, / темже Господь увенча вас / нетленным венцем славы Своея.
Преподобномученик Анатолий (в миру Анатолий Иванович Ботвинников) († 1937)
день памяти 13 ноября (н.ст.)
Преподобномученик Анатолий (в миру Анатолий Иванович Ботвинников) родился 15 октября 1881 года в деревне Копани Быховского уезда Могилевской губернии в крестьянской семье. Когда мальчику исполнилось пятнадцать лет, умер отец, и мать с сыном переехали в Тобольскую губернию, им дали землю, они обзавелись хозяйством, и Анатолий стал крестьянствовать, как когда-то его отец.
Началась Русско-японская война, и Анатолий был призван рядовым на действительную военную службу. Во время военных действий он оказался в Порт-Артуре, был ранен; попал в плен, где пробыл около года; последствия ранения остались на всю жизнь — у него была ограничена подвижность руки и спины.
После заключения мирного договора с Японией Анатолий Иванович был отпущен из плена и вернулся домой. Он никогда раньше не помышлял о служении Церкви, но война, близость смерти, ранение, жизнь в плену язычников произвели переворот в душе молодого человека, выделив главное — спасение своей души; и он принял решение — если останется жив, то станет монахом.
В апреле 1906 года он поступил в один из сибирских монастырей. Здесь в течение нескольких лет он выполнял самые различные послушания. В 1912 году он был направлен в качестве православного миссионера в Китай. Через год он вернулся в Россию и поступил в Николо-Теребенский монастырь Тверской губернии и здесь принял монашеский постриг с оставлением того же имени. В 1920 году монах Анатолий был рукоположен в сан иеродиакона. Через год советские власти упразднили монастырь, но оставили храм, где он и продолжал служить. Через несколько лет он был рукоположен в сан иеромонаха и в 1928 году направлен в храм села Сорогожье Михайловского района Тверской области, где его застали гонения начала тридцатых годов.
27 октября 1930 года помощник уполномоченного ОГПУ допросил комсомольцев Сорогожского сельсовета — юношу двадцати четырех лет и девушку двадцати лет, которые дали показания против приходского священника.
«27 октября сего года в разговоре с Зориновым Василием Михайловичем хутора Прибытково Стройковского сельсовета Михайловского района по вопросу о попах, церквах окружающего района и так далее последний заявил мне, что его мать, придя домой из церкви, сказала ему, что 19 октября сего года, в воскресенье, поп сорогожской церкви Ботвинников сказал после службы проповедь, а в проповеди жаловался, что ему стало плохо жить, что советская власть обижает служителей церкви налогами, что ему за то, что он служитель церкви, пришлось уплатить непосильный налог. По словам этой матери, присутствующие в церкви были этим обстоятельством очень расстроены. Его мать, придя из церкви, набросилась на него за то, что он комсомолец и не верует в Бога, ругая всех коммунистов на чем свет стоит за то, что они сживают "со света", по ее словам, попов и религию. После она просила денег у него для оказания помощи попу. Верующие как будто бы пустили подписной лист по оказанию помощи "пострадавшему батюшке"».
«В феврале месяце я была на почте, куда пришел и Ботвинников, где заявил, что "советская власть при раскулачивании грабит, вот и меня ограбила тоже"».
Сотрудник ОГПУ счел подобного рода «показания» вполне достаточными, и 5 ноября иеромонах Анатолий был арестован и заключен в Бежецкую тюрьму. Поскольку никаких других сведений о нем ОГПУ не имело, уполномоченный, не уточняя, за что его арестовали, попросил священника рассказать о себе. Иеромонах Анатолий сказал, что происходит из крестьян, воевал солдатом в Русско-японскую войну, а все остальное время подвизался в монастыре и священником на приходе.
Отец Анатолий уже был арестован, а следователь еще в течение трех последующих дней собирал доказательства о его антигосударственной деятельности, опрашивая жителей села. Вот что ему удалось собрать: «В апреле месяце текущего года в религиозный праздник "Пасху" поп сорогожской церкви Ботвинников, будучи в деревне Хальково, среди присутствующих крестьян говорил, что "сорогожская церковь, граждане, старая и скоро развалится, служить в ней нельзя, надо хлопотать об открытии Алексеевской церкви". Дальше он, обращаясь к ним, говорил: "Верующие, не бросайте церковь, не верьте басням, что нет Бога. Бог есть, вспомните, будет суд, воскреснут живые и мертвые, и всем грешникам попадет по заслугам, попадут они в геенну огненную"».
«Приблизительно в октябре месяце этого года моя мать, придя из сорогожской церкви, стала рассказывать мне, что поп Ботвинников со слезами на глазах после службы в церкви выступал с проповедью, в которой говорил: "Советская власть обдирает церкви, налагая большие налоги на священство, и стало трудно жить"».
Вызванная на допрос мать свидетельницы, еще нестарая женщина, ответила на вопросы следователя лаконично: «Приблизительно в октябре месяце сего года я, будучи в церкви, слышала, что поп Ботвинников, выступая в проповеди, плакал, говоря, что жить при советской власти стало трудно».
Некоторые же и вообще отказывались что-либо показывать, говоря, что они знают о проповеди о. Анатолия только понаслышке. Собрав все эти сведения, следователь 18 ноября допросил о. Анатолия.
Великая вера, верность Христу и Его Церкви жили в сердце иеромонаха-исповедника, не приемлющего ни лукавых мыслей, ни лукавого жития.
«Виновным себя в предъявленном обвинении не признаю, — ответил о. Анатолий, — и добавить что-либо не имею».
1 декабря помощник уполномоченного составил обвинительное заключение, где священнику вменялось в преступление распространение «ложных слухов среди крестьянства о якобы производимом гонении советской властью на церковь и служителей культа». 10 декабря 1930 года Тройка ОГПУ приговорила иеромонаха Анатолия к трем годам заключения в исправительно-трудовой лагерь.
Таких, как о. Анатолий, никогда не освобождали раньше срока, указанного в приговоре, а только день в день, надеясь, что, попав на каторжные работы, они умрут в лагере. Отец Анатолий, несмотря на болезнь — следствие ранения, выжил и в 1934 году получил приход в селе Дубровском Брусовского района Тверской области.
Ничего не изменилось в его отношении к высокому пастырскому служению — он так же ревностно служил, по-прежнему проповедовал и неутомимо окормлял духовно своих прихожан. И ему все способствовало во благое. В это время священнослужители прославляли Господа подвигом исповедническим и мученичеством, в них прославлялась златозарная и духоносная святая Русь как неотъемлемая во святых своих часть Царства Небесного.
Иеромонах Анатолий прослужил на своем новом приходе в селе Дубровском три с половиной года.
15 октября 1937 года о. Анатолий был арестован, и на следующий день следователь допросил его.
— Следствию точно известно о проводимой вами контрреволюционной деятельности, расскажите сами об этом подробно.
— Контрреволюционной деятельностью я не занимался и никакой антисоветской агитации не вел и виновным себя в этом не признаю.
При опросе свидетелей следователю почти не удалось собрать показаний против священника. Говорили только, что он сравнивал дореволюционную и новую жизнь и не был сторонником государственных займов.
После ареста и допроса священник был заключен в тюрьму города Бежецка. Спустя немного времени, 11 ноября, Тройка НКВД вынесла постановление о его расстреле. Иеромонах Анатолий был расстрелян 13 ноября 1937 года.
Священномученик Иосиф Сченснович († 1937)
день памяти 22 ноября (н.ст.)
Священномученик Иосиф Сченснович, диакон. (Иосиф Антонович Сченснович) родился 7 июня 1886 года в местечке Жировицы Слонимского уезда Гродненской губернии в семье белорусского крестьянина. Богословское образование он получил в Жировицском Духовном Училище, которое закончил в 1901 году. А после окончания курсов псаломщиков в Гродно служил псаломщиком с 1903 по 1915 годы в храме села Великий Лес Брестского уезда Гродненской губернии.
После начала военных действий Иосиф перебрался в Москву. В 1924 году Иосиф Антонович был рукоположен в сан диакона и направлен для служения в поселок Высокое Харьковской губернии. А в 1930 году был переведен в Троицкий храм поселка Купавна Московской области. 12 ноября 1937 года отец Иосиф вместе со своим настоятелем и членом церковной двадцатки – Сергеем Фрыгиным были арестованы и заключены в тюрьму в городе Ногинске. После нескольких допросов, 19 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Иосифа к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 21 ноября 1937 года. Тело священномученика было погребено в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой .